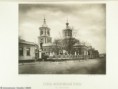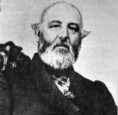Школа № 627 (бывшая общеобразовательная средняя школа № 525). Это второе здание школы. Постройка 1936 года. На ее месте стоял Храм Живоначальной Троицы в Больших Лужниках. Центральный храм слободы Большие Лужники.
Первое достоверное упоминание церкви в документах относится к 1625 году. Возможно, слободская церковь была на этом месте уже веком ранее.В первом, деревянном виде, это был храм Рождества Предтечи, а место обозначалось "что в Конюхах, на верченом", или "что на вертящихся колодцах", или "что в Больших Лужниках", или "что на ключиках".
По другой версии, первоначальное посвящение храма было во имя святителя Николая Чудотворца, вскоре церковь была освящена заново во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи, а затем храм освятили во имя Троицы. Старые посвящения же были запечатлены в приделах.
Согласно "Историко-археологическому описанию церкви св. Живоначальной Троицы, что в больших Лужниках, в Москве". И.Ф.Токмакова (издание 1891г.), точное время возведения первоначальной постройки неизвестно, а деревянная церковь существовала еще в начале 17 века и была известна как Рождества св. Иоанна Предтечи в Лужниках на "вертящихся колодцах". Название урочища И.Ф.Токмаков объясняет "обилием ключей, доселе существующих близ храма и по Кузнецкой улице". Он цитирует документы из архивов, согласно которым к церкви были приписаны "дворы священника, дьякона, пономаря, просфирни и 52 приходских".
Примерно в середине XVII века на месте старой церкви впервые был возведён каменный храм, освящённый во имя Живоначальной Троицы. Вероятным годом постройки называют разные даты - 1638 год, 1657 год.
Во время реконструкции в 1690 году Святотроицкая церковь, как её ещё называли в народе, приросла с западной стороны трапезной, в которой был устроен придел Усекновения Главы Иоанна Предтечи.
Храм изменил свой облик во время очередной перестройки в 1730 году, когда обрёл с южной своей стороны ещё один придел, освящённый во имя святого Николая Чудотворца. "В 1730 году запечатан указ о строении Церкви каменного престола по челобитью Церкви Живоначальной Троицы, что в Больших Лужниках, попа Стефана Кириллова с прихожанами, велено им к той настоящей Церкви построить вновь для зимнего времени каменный придел во имя Св. Николая Чутотворца". (дано по И.Ф.Токмакову, который цитирует приходно-расходные книги Патриаршего приказа)
В 1785-1789 годы была разобрана старая колокольня и на её месте возвели новую, добавив к постройкам так же новую трапезную с приделами традиционных для этого храма святого Николы и Усекновения Главы Иоанна Предтечи. В это же время в основном помещении храма соорудили и новый алтарь. Основная часть здания, вероятно, сохранила старые стены, но получила новый фасад. Упоминают также о сохранении древнего крещатого свода над храмом. Освящение храма после ремонта состоялось 8 мая 1789 года. Именно такой осталась она на фотографиях. В таком виде церковь простояла несколько десятилетий.
К 1812 году приходских дворов было 37, жителей мужского пола - 219, женского - 291. Все дома, по данным И.Ф.Токмакова, были сожжены во время "французского нашествия".
В 1858 году современники писали, что храм снаружи "не великолепен", зато внутри "богато украшен", летняя церковь расписана "фряжским письмом превосходной работы", трапеза - итальянскою живописью, " известными художниками Павлом Николаевым и Ильею Никифоровым, бывшими подмастерьями славного Скотти". "Как в летней церкви, так и в трапезе на всех иконах ризы серебряные вызолоченные, ризница богатейшая, подобной не во многих церквях можно найти: напрестольное евангелие отличной работы, сооруженное в первый год нынешнего столетия, стоящее шесть тысяч рублей ассигнациями, и, кроме того, есть еще два евангелия, окованные позолоченным серебром, животворящих напрестольных четыре креста, все серебряные и вызолоченые, из них два - замечательные: один - по древности в вложенной в нем части св. Ризы Господней, другой - по изяществу работы; дарохратительницы две: одна старинная, медная, позолоченная, обложенная серебром, другая высеребренная, новейшей работы первого Московского мастера, стоящая тысячу рублей серебром; четверо св. сосудов вызолоченных: двое новейшей изящной работы, третьи - черновой отличной работы, а четвертым сосудам 150 лет, как видно из надписи на потире.
Два Евангелия, три креста, двое сосудов, пятнадцать серебряных риз с икон и несколько других серебряных вещей были зарыты в летней церкви, по милости Божей, сохранились от врагов. Всего серебра было более пяти пудов".
И.Ф.Токмаков также приводит любопытную статью Н.Старикова, который пишет, что "близ церкви находился дом церковного старосты Дмитрия Кононовича Боткина, главного вкладчика и украсителя Троицкой церкви. По словам священника Никитина, поступившего к Живоначальной Троице в в 1757 году, на Кузнецкой улице была мостовая деревянная, бревенчатая, и на ней, подле сада купца Малютина, а почетного гражданина Боткина, всякую весну выступала из земли в большом количестве струя чистой воды, и сколько не старались засыпать это место, насыпь обваливалась и показывалась вода; даже и в 1858 году, когда мостовую подняли на два аршина выше, в этом месте показывалась весною вода, поэтому надо полагать, что в старину в этом месте находился колодезь, названный вертячим".
Кроме того, Н.Стариков пишет, что "Большие Лужники издревле населены были купцами, людьми благочестивыми и степенными, и хоотя их не было особенно богачей, зато были очень усердные к церкви Божьей, что свидетельствует утварь и украшение церковное, и вообще благолепие храма Господня.
Один из них в 1790 году на собственное иждивение слил медный колокол в 240 пудов, что по тогдашнему времени считалось за великое пожертвование, а прочие жертвовали на сооружение храма Господня, который в продолжении трех лет, вместо старого каменного, без всякой сторонней помощи вновь сооружен пространнее и каменною оградою обнесен, и всяким украшением и утварью богато наделен, кроме того, по усердию прихожан, устроена богадельня на 10 престарелых женщин со всякою принадлежностью".
Большие ремонтные работы и полное изменение отделки интерьеров произвели в 1858-1861 годах. Заново вызолотили главы, вымостили мрамором пол,обновили иконостасы и заново расписали стены. Тогда церковь стала одной из богатейших и любимых москвичами. Спонсировал ремонт староста общины купец М.Л.Королев.
2 июня 1861 года храм посетили император Александр II, императрица Мария Александровна и великий князь Сергей Александрович (будущий генерал-губернатор Москвы). Это было выдающееся событие в жизни рядового приходского храма, хоть и считавшегося одним из самых красиво обустроенных и богато отделанных в Москве, вызвавшее преизрядный переполох. Впрочем, старания прихожан пришлись государю по нраву. Ему представили и М.Л.Королева. По одной из версий, купец отсчитался о проделанной работе и был милостиво спрошен: "Как твоя фамилия?". "Семейство в полном благополучии, живо-здорово, чего и вашего величества семейству от всего сердца желаем!", - ответил купец.
После этого государь решил навестить такое отзывчивое семейство и действительно нанес визит в дом церковного старосты через дорогу. Эту историю в жизни Замоскоречья запомнили надолго.
И.Ф.Токмаков пишет: "В бозе почивший Император Александр Николаевич, посетивший храм этот с Императрицей Марией Александровной и августейшими детьми Великою Княжною Марией Александровной и Великим Князем Сергеем Александровичем, изволили выразить Высочайшую благодарность Ктитору за благоукрашение Храма в строго церковном - древнем стиле. Это произошло в 1861 г., июня 2-го, в 7 часов пополудни".
(что произошло на самом деле, см. соседнюю колонку)
Он же упоминает учавстовавших в ремонте архитектора и резчика Миронова, "по части живописи - Г.Щепетов, по устройству церковной утвари - Шнейдер", "священных сосудов, евангелий в древнем вкусе и риз на местных иконах - Антипов", а также Ктитора Ивана Кирилловича Королева, который "трудился в поддержании Храма в прежнем благолепном виде".
Кроме того, по его данным, в 1868 году М.Л.Королев построил на церковной земле деревянную, крытую железом богадельню. Церкви также принаджелали "дом бывший священника двухэтажный" с первым этажем каменным, вторым - деревянным, и еще один одноэтажный деревянный на каменном фундаменте, купленный в 1875 году М.Л.Королевым на собственные средства в собственность храма с тем условием, что верхняя квартира в большом доме была бы занимаема священником, состоящим на действительной службе при этой церкви, а прочие квартиры "отдавать в наймы и доходы с оных за исключением ремонта и других расходов по содержанию дома поступали бы в церковь".
На церковные средства в 1885 году был куплен бывший дом дьякона "двухэтажный с мезонином деревянный" с условием, что как настоящий дьякон, так и его преемники будут занимать одну квартиру на втором этаже, а прочие квартиры отдавать в наймы с такими же условиями, как и в предыдущем случае.
В 1882 году на церковные средства был куплен бывший дом псаломщика , одноэтажный, деревянный, с мезонином Церкви принадлежали также и несколько других строений.
По данным на момент издания исследования И.Ф.Токмакова, которые он приводит в заключение своей статьи, в приходе числилось 43 двора, 274 мужчины и 330 женщин, в том числе "раскольников поповщицкого толка" 6 дворов, 9 мужчин, 10 женщин. Последние цифры, думаю, занижены.
При храме было попечительство в память избавления государя императора от опасности 17 окт. 1888 г..
Церковные владения простирались до Новокузнецкой улицы. С начала XIX века от Новокузнецкой улицы к церкви и на Лужнецкую был сделан проход шириной 3 аршина с воротами. Интересно, что и сейчас почти на том же месте есть проход от Новокузнецкой до Бахрушина (мимо дома № 28). На церковной земле были дома причта и богадельня, содержащаяся за счет капитала, положенного в сохранную казну.
В Советское время, в 1922 году, власти изъяли из храма10 пудов 25 фунтов 33 золотника золотых и серебряных изделий (это больше 170 кг).
В начале 30х годов труженики завода "Мосэлектрик" потребовали от Моссовета закрытия храма.
В 1932 году церковь закрыли, а в 1933 снесли. Только церковная ограда стояла вдоль улицы еще несколько десятилетий. Огромный погост и ворота сохранились до 1960-х гг., когда пустырь застроили жилым домом и зданием Москворецкого райисполкома (Н.И.Якушева).
На ее месте была построена школа №525, и 1 сентября 1936 года она приняла первых учеников. Здание школы построили по одному из двух типовых проектов архитектора К. Н. Джуза. Школа была рассчитана на 450 мест, сразу начали учиться 300 человек во всех классах.
Сразу после начала Великой Отечественной войны ушли на фронт её директор, Колосов Иван Иванович , восемь учителей, выпускники. Из выпускного класса 1941 года, в котором было 18 мальчиков и 18 девочек, на фронт ушли все мальчики и две девочки. После победы в классе осталось только 10 мальчиков. Директор школы скончался в 1943 году от ранения, полученного на фронте, с войны не вернулись 3 учителя. На первом этаже школы в память о них установлена мемориальная доска.
Во дворе школы, на углу ее фасада и внутри в школьном музее развернут мемориал воином-ополченцам Кировской дивизии, чьи части формировались в этом здании в июле-ноябре 1941 года.
Во время войны в школе разместился госпиталь. Здание было повреждено от попадания бомбы на улицу. 11 сентября 1942 года после восстановления школа возобновила занятия.
Ныне у ворот школы в качестве мемориала стоит пушка-"сорокопятка" образца 1937 года. Она была обнаружена под Новгородом, пролежав в земле 60 лет.
композиция памятной доски, установленной к к 60-летию битвы над Москвой, включает в себя фигуры ополченцев, грузовик-полуторку, увозящий мобилизованых рабочих, рельсовые ежи и баррикады из мешков с песком, сооруженные именно на Лужнецкой улице. Авторы композиции: арзитектор Гаджимурат Шугаев, скульпторы Владимир, Елена и Данила Суровцевы.
В этой школе с 1937 по 1947 год учился заслуженный артист РСФСР, режиссер Ролан Быков. В те же годы учеником школы был советский писатель Юрий Бондарев. Один из учителей русского языка литературы, Кооль Николай Мартынович, известен как автор текста песни «Там вдали за рекой». Учеников этой школы был также и математик, академик Генрих Иваницкий.
В середине 90х годов в здании была проведена реконструкция, стены остались старыми, но внутри здание значительно обновилось.
В 2003 году в память о находившемся здесь храме Троицы, там где находился его главный алтарь, была заложена православная Свято-Троицкая часовня. Часовня построена по инициативе военно-патриотических объединений и отрядов Москвы и Московской области, местного отделения партии «Единая Россия» и местных властей. Освятил часовню благочинный Москворецкого округа протоиерей Николай Кречетов (см также jirafma-next.webnode.ru/novokuznetskie-pereulki/vtoroj-novokuznetskij-pereulok/a2-j-novokuznetskij-per-10s1/.)
С 2005 года и по настоящее время школа носит имя Ролана Быкова. Актеру и режиссеру посвящена одна из витрин школьного музея.
В октябре 2012 года в результате объединения с ЦО №627 школа получила новое название «Государственное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 627».
В июле 2014 года в результате реорганизации школа получила новое название ГБОУ школа № 627.
из воспоминаний Е.А.Бальмонт
У дедушки
Нас, детей, часто возили в дом к дедушке — по воскресеньям и по всем большим праздникам. Мы очень это любили. Зимой — в четырехместных санях, весной — в шестиместной коляске, обитой внутри золотистым штофом. Мы влезали в нее по откидным ступенькам и, тесно прижатые друг к другу, закрытые до подбородка тигровым пледом, молча ехали в Лужники.
По дороге я помню только Замоскворецкий мост, очень страшно было видеть под собой воду. Когда после моста сворачивали на широкую пустынную улицу, кажется, она называлась Татарской, мы знали, что сейчас будет красная церковь дедушки, а потом дедушкин дом.
Как все там было не похоже на нашу Тверскую — ни экипажей, ни пешеходов, ни городовых. Мирная тишина деревенской усадебной жизни. Белый двухэтажный дом, перед ним большой двор, посыпанный красным песком, посреди двора развесистый дуб с подстриженной верхушкой в виде шатра. За домом большой сад с беседками, плодовыми деревьями, огородом и кегельбаном, тогда еще редкой новинкой.
В гостях у дедушки нам, внукам, было раздолье, нам позволялось делать все, что мы хотели. Бабушка была страшно добра к нам. Она всегда искренне радовалась нам и сейчас же принималась нас кормить. В большой уютной столовой, выходящей во двор, с рядом высоких окон, она производила впечатление застекленной террасы, — был уже накрыт длинный стол. На сверкающей белой скатерти кипел серебряный самовар. Рядом на столе поменьше стояла огромная медная кастрюля, закутанная белой салфеткой, в ней дымился шоколад. Кругом в большом количестве «поповские» чашки (на светло-коричневом фоне в золотых медальонах букеты цветов).
Бабушка не садилась, она обходила стол и смотрела, есть ли у каждого из нас что нужно. Лакей разливал шоколад и ставил перед нами чашки. Бабушка накладывала печенье на тарелки и оделяла нас конфектами. Я не помню, чтобы она разговаривала с нами. Но она знала наши характеры и вкусы: «Тянучки — Кате, Мише — помадка, дайте Леше чай, он не пьет шоколад». Это она знала из своих наблюдений, потому что в то время мы и помыслить не могли заявлять о своих вкусах и желаниях, так как дома нас воспитывали в большой строгости и с нами никто не считался. «Молчи, тебя не спрашивают», слышали мы от матери, когда кто-нибудь из нас ненароком раскрывал рот. Чаще всего приходилось мне это слышать.
Больше всего меня поражало, что бабушка не боялась (как все решительно у нас дома) нашей матери и на ее строгие окрики говорила ей при нас: «Оставь, Наташа, они у меня в гостях, это уже мое дело». И мы пользовались этим и делали, конечно когда тут не было матери, все, что дома запрещалось. Но, по правде сказать, делать нам мало что было. Пробежав по скучным парадным комнатам, где мебель в чехлах стояла чинно по стенкам, потоптавшись по бархатному ковру, а не по протянутым полотняным дорожкам, приподняв чехлы, робко потрогав диван и два кресла в гостиной, на которых когда-то сидели государь и государыня и которые были по сему случаю водружены на зеленый деревянный постамент под малахит, а к их спинкам прикреплены золотые орлы, мы бежали на цыпочках мимо столовой, где сидела мать, в девичью, к экономке, или в каморку лакея. У экономки, очень милой, кроткой старушки Захарьевны, которую мы любили не меньше бабушки, мы знали, стол будет уставлен фруктами и пирожными, которые она заготовляла к обеду; на отдельном подносе будут положены орехи, пряники и конфекты в золотой и серебряной бумаге с картинками, что предназначались нам. Захарьевна разложит их по коробочкам, а бабушка при прощании даст нам «в собственные руки», чтобы мы ими распорядились по своему усмотрению.
За обедом, мы знали, вокруг башни из мороженого, за забором из жженого сахара будут стоять белые сахарные корзиночки, а в них глазированные фрукты: персики, сливы, сверху виноград. Корзиночки эти были хрупки, и старушка Захарьевна всегда боялась, когда мы их трогали, и умоляла: «Полегоньку, полегоньку», но никогда не бранила нас, не гнала от себя.
Вообще общий тон в доме дедушки был чрезвычайно мирный, с нами, детьми, все были ласковы, со старшими почтительны без льстивости и заискивания. Я не помню, чтобы там кто-нибудь ссорился или возвышал голос. У бабушки жила приживалка Александра Петровна, дальняя ее родственница, хитрая, льстивая и аффектированная. Ее все в доме терпеть не могли. Моя мать прозвала ее «Дама с гримасами». Бабушка одна, страдавшая больше всех от претензий этой особы, всегда защищала ее: «Бог с ней, с этой несчастной». Преследовал ее только лакей дедушки Румянцев, «камардин», как он сам называл себя: нарочно не звал Александру Петровну к чаю; на больших обедах, пользуясь тем, что Александра Петровна сидела на конце стола, обносил ее любимыми блюдами. На укоризненные замечания бабушки вполголоса негромко говорил, картавя: «Я им предлагал, они не хотят-с». Но эти выходки были все же невинны и нас, детей, очень забавляли. Своим глупым важничаньем Румянцев импонировал нам гораздо больше, чем наш дедушка. Мы бывали очень счастливы, когда он снисходил до разговоров с нами.
Время до обеда, пяти часов, нам казалось, тянулось очень долго. В ожидании обеда мы сидели в диванной. Это была небольшая проходная комнатка без окон между столовой и залой. Она освещалась четырьмя большими окнами столовой. Вдоль ее стен шли узкие жесткие диваны с твердыми, как камень, подушками. На этих диванах никто никогда не сидел, по-моему, а лежать на них уж совсем нельзя было. По стенам над ними висели портреты: митрополита Филарета{15}, акварель под стеклом и несколько портретов маслом, вероятно, каких-нибудь родственников дедушки. Все они были, казалось мне, на одно лицо: румяные лица на черном фоне, с как бы вытаращенными, неподвижными глазами (от напряжения, верно), с прилизанными волосами на прямой пробор и в суконных сюртуках. У одного, пожилого, самого важного, на шее висела золотая медаль на красной ленте, такая, какая была у дедушки. Затем ниже много дагерротипов под стеклом, портреты, на которых мы узнавали людей: теток нашей матери, крестную…
Но наше всегдашнее внимание привлекали три картины маслом, не очень на виду висевшие. На них доморощенный художник увековечил посещение государем Александром II и государыней Марией Александровной дедушки.
Первая картина: государь стоит на паперти дедушкиной церкви в распахнутой шинели, в военной фуражке, за ним дедушка в накинутой на плечи шубе, с непокрытой головой. У самых ступеней лестницы, на снегу дедушкины парные сани, лошади покрыты синей сеткой.
Вторая картина изображала бабушку в широком коричневом шелковом платье, почти закрытом белой китайской крепдешиновой шалью с длинной бахромой, в белом кружевном чепце с завязками под подбородком. Бабушка подносит в серебряной корзиночке [29] печение государыне, сидящей на диване в голубой гостиной, возле нее стоит моя мать в таком же пышном шелковом платье и держит за руку девочку лет двенадцати, коротко остриженную, в шелковом платьице, из-под которого видны длинные кружевные панталоны. Это моя старшая сестра Саша. Мы рассматривали эти картины с благоговением и гордостью и завидовали счастью сестры, которую государыня, как нам рассказывали, поцеловала в голову. «Поэтому она такая умная», — подшучивал отец. Нас, младших, тогда на свете еще не было.
Третья картина изображала зал в доме дедушки, длинный стол глаголем, очень нарядно накрытый, сверкающий белоснежной скатертью, серебром и хрусталем. Во главе стола сидел дедушка в мундире с медалями на груди, нарядная бабушка, мой отец, мать и другие родные и много военных в мундирах. «Все генералы, свита государя императора», — поучал нас лакей дедушки. Не знаю, почему они обедали у дедушки в доме, и когда это было, мне не удалось установить.
После обеда, часов в семь, нас собирали домой — как раз когда начиналось «самое интересное», казалось нам. В зале расставляли карточные столы, зажигали канделябры… Мы спускались по парадной лестнице, которая обыкновенно была заперта, в переднюю, большую, низкую, еле освещенную одной небольшой висячей керосиновой лампой под потолком. Нас сажали на деревянные лари с резными спинками и одевали. В этой полутьме мы тотчас же начинали дремать. Процедура одевания была долгая и мучительная. На нас, девочек, надевали красные фланелевые панталоны, шерстяные чулки, черные бархатные сапожки на мерлушке, черные атласные капоры на пуху, под них еще иногда чепчики, поверх повязывали широкими шерстяными шарфами. Бабушка, присутствовавшая при нашем одевании, всегда находила, что мы недостаточно тепло закутаны, она посылала за своими пуховыми платками, и нас в них завертывали с головы до ног. Мы задыхались под этими платками, не могли двинуть ни ногой, ни рукой. Но протестовать нам никогда в голову не приходило. Нас поднимали, как кукол, сажали в сани или карету и вынимали оттуда, когда мы приезжали домой.
Дедушка наш был старик очень красивый, высокого роста, с правильными чертами лица, с орлиным носом. Он держался прямо, голову нес высоко и, несмотря на свою полноту, ступал легко и мягко. Говорил он мало, казался очень важным. Но его все любили, и никто не боялся в его окружении.
Бабушка, небольшая, кругленькая, вся светящаяся добротой и кротостью, благоговела перед дедушкой и всегда была исполнена внимания и заботы о нем. Он был с ней мягок, с нами ровен и ласков.
Дедушка с бабушкой прожили до глубокой старости в полном мире и согласии. Когда умерла бабушка, дедушка так горевал, что заболел и вскоре последовал за ней. Болел он меланхолией. Мне тогда было около семи лет. Я спросила няню, что это такое — «меланхолия» (причем ни я, ни няня не могли правильно выговорить это мудрое слово)? «А вот увидишь дедушку — узнаешь», — сказала няня. Летом дедушка приехал к нам гостить на дачу незадолго до своей смерти. Действительно, он был неузнаваем. Он не приходил к нам в детскую, почти не говорил, не звал нас к себе в комнату, как прежде.
Вернувшись из церкви утром, он ложился на огромный диван, сделанный для него специально, и, отвернувшись к стене, вздыхал. «Ну, поняла, какая болесть у дедушки?» — спросила меня няня. «Поняла». И я долго после этого слово «меланхолия» связывала с представлением о большом толстом человеке, лежащем на диване, уткнувшись в подушки, и вздыхающем.
Мертвым мы не видели дедушку, мы чем-то болели в то время. Только позже нас часто возили на его и бабушкину могилу на Даниловское кладбище. Высокий гранитный памятник, видный издалека, мне всегда казалось, был похож на дедушку.
Дома у нас очень чувствовалось горе, которое переживала наша мать. Каждую субботу после всенощной и воскресенье после обедни в церкви служили панихиду по рабам Божиим Михаиле и Татьяне. Мать была в глубоком трауре, и мы все были одеты в черное.
К концу этого года отец мой сказал как-то матери при нас: «Как мне надоели эти черные галки, одень ты их, мама, повеселей». И как всегда, желание отца было исполнено: к Пасхе нам, девочкам, сшили красные с черным клетчатые платья с черными широкими поясами, мальчикам — серые блузы с черной отделкой на воротнике и рукавах. Отец, увидев нас в новых платьях, шутя погрозил матери пальцем и засмеялся: «Не очень веселые костюмчики».
Через два года умер мой отец. Его смерть повергла мать на всю жизнь в безутешное горе, а нашу семью на много лет в траур и печаль.
из воспоминаний Ю.Бахрушина
В ноябре 1862 года высочайший двор прибыл в Москву. Это была еще пора розовых мечтаний и зеленых надежд. В ушах еще не замер ликующий трезвон герценовского «Колокола», провозгласившего Александра II идеалом монарха*. Одновременно это была и пора начала расцвета российского капитализма, когда купечество, осознав свою роль и место в государственной машине страны, стало принуждать правительство считаться с силой золота.
На высочайший выход в Большом Кремлевском дворце были собраны все первые персоны стольного города. В Андреевском зале стояло дворянство, в Георгиевском — военные, во Владимирском — купечество.
Под колокольный звон и постукивание церемоний-мейстерских жезлов новый царь шествовал но залам своего дворца, приветливо улыбаясь и милостиво заговаривая с присутствующими. Раболепно склонялось перед ним дворянство, тянулась военщина и отвешивало степенные поклоны купечество. Со всех сторон Владимирского зала на Александра II были устремлены взоры седобородых, в длиннополых сюртуках представителей новой народившейся государственной силы.
Московский городской голова Михаил Леонтьевич Королев подал царю хлеб-соль на серебряном блюде работы Сазикова. Царь благосклонно принял подношение, поблагодарил, передал адъютанту и, обратись к голове, спросил:
— Как твоя фамилия?..
— Благодарение Господу, благополучны, ваше величество, только хозяйка что-то малость занедужила, — серьезно ответил Королев.
Произошло неловкое замешательство, но Александр II быстро сообразил, что не знакомый с новыми тонкостями галлицизмов голова понял слово «фамилия» в его старинном значении — «семья».
— Ну, кланяйся ей, — улыбнувшись, ответил царь и под влиянием внезапного наития добавил, — да скажи ей, что я со своей хозяйкой приеду ее проведать…
Милостивые слова государя молниеносно облетели зал и произвели на купечество впечатление разорвавшейся бомбы — царь при всех, громко обещал приехать в гости к купцу! Это было неслыханно в истории России. Скептики пожимали недоверчиво плечами и сомневались в подлинности рассказов присутствовавших на выходе.
Но Александр II сдержал слово. Одним солнечным зимним днем, 4-го декабря 1862 года, его парные сани с толстым кучером остановились у подъезда королевского дома…* Толпы сбежавшегося народа на улице и цвет московского купечества, собранный головой, встречали императора. Он приветливо и долго запросто говорил с купцами, а царица сидела в гостиной и пила чай с сухариками, подаваемый ей смущенной супругой-хозяйкой.
Событие это, как открытое всенародное признание правительством значения купечества, нашло себе широкое и всестороннее отображение в прессе. По заказу Королева два эпизода — приезд царя и чаепитие — были запечатлены художником на полотне и украсили стены отныне исторического дома…
Годы шли своей чередой. Купцы, воспитанные по старинке в традициях предыдущей эпохи, должны были постепенно уступать свои места молодым просвещенным мануфактуристам, говорившим на иностранных языках и ездившим изучать производство за границу.
Эту молодежь впервые отметила пресса, когда сообщала об обеде, данном Королевым министру внутренних дел П. А. Валуеву вскоре после упомянутого визита царя.
(Среди присутствовавших «было несколько молодых людей из купечества, — писала газета «Наше время», представителей новой эпохи и нового воспитания. Многие из них живали за границей, и человек, не бывавший в их среде, удивился бы, слушая их. Разговор зашел, между прочим, об итальянской опере, и молодые люди говорили о музыке не только с живым интересом, но явно обогащенные специальными знаниями».)
Российская «шестая держава» попала в явный просак. За множеством дел она не приметила, как рядом с ней незаметно вырос и окреп новый класс людей, на которых она привыкла смотреть как на папуасов.
С ростом купечества росла и конкуренция. Королев разорился, и его наследники продали исторический дом. Почти ровно через тридцать четыре года после описанных событий в знаменитой комнате, где Татьяна Андреевна Королева дрожащими руками подавала поднос с корниловскими чашками государыне Марии Александровне, в одно январское раннее утро я впервые увидел свет.
====
После приезда моих родителей из своего заграничного путешествия 1900 года они переехали со мной в новый, только что отстроенный дом, в котором и протекла моя последующая жизнь.)
Дом этот был воздвигнут рядом со старым зданием, в котором я родился на месте знаменитых королевских садов, занимавших целый квартал. Сад этот был того же типа, что и деда Носова, но еще более обширный, также с оранжереей, огородом, фруктовым садом, беседками, цветниками и прочими купеческими затеями, вызванными игнорированием дач и нелюбовью к передвижениям. Старуха Королева, продавая владенье, как особым достоинством своей земли хвасталась перед покупателями наличием поглощающих колодцев. Конечно, это сообщалось но секрету, так как это «достоинство» уже преследовалось тогда законом. Поглощающие колодцы были своеобразные скважины в земле, обладавшие способностью всасывать в почву все, что в них попадало, Благодаря этому владельцы участков с такими особенностями грунта были избавлены от трат по вывозу мусора со своего владения. Вся эта отвратительная грязь сваливалась в колодец и исчезала. А там дальше владельцу было наплевать, что впоследствии это попадало в подземные ключи, питавшие многочисленные тогда колодцы питьевой водой.
===
Дабы меня развлечь, она предлагала мне посмотреть в окно. Это созерцание улицы крепко врезалось в мою память. Напротив наших окон был дровяной склад. За дощатым забором в штабелях лежали горы дров, а у ворот под синей вывеской стоял сам хозяин с небольшой седой бородкой, в поддевке, важно и степенно раскланиваясь со знакомыми и сразу оживляясь при появлении покупателя. Мимо дома, по Валовой улице ходила конка. По своим прогулкам я знал, что там дальше у Краснохолмского моста к вагону припрягалась еще пара лошадей с мальчишкой-форейтором, и тогда вся эта упряжка с гиканьем и криком мигом взлетала на крутую Таганскую гору. Я тогда завидовал судьбе этих форейторов и мечтал, когда подрасту, обязательно упросить родителей определить меня на эту должность
===
Громыхая по булыжникам железными шинами, тащились по улице извозчики или же длинной, бесконечной цепью тянулись ломовые с полками, груженными товарами. Иногда улица оживлялась свадебным поездом — в открытой пролетке с пристяжкой, впереди катили разряженные шафера с флердоранжем в петлицах, затем ехала карета с молодыми, вся зеркальная, обитая белым шелком, с лакеями на запятках, а за ней следовали провожатые. Прохожие тогда снимали шапки и крестились, желая молодоженам совета и любви. А порой мимо дома проходила погребальная процессия с торжественной траурной колесницей под балдахином, влекомая шестеркой или восьмеркой лошадей под сетчатыми попонами. Впереди несли венки, шествовали певчие и ноны, по бокам шли факельщики с зажженными фонарями в белых цилиндрах и нелепых белых же балахонах, а сзади тянулись экипажи — сперва кареты, затем пролетки, а совсем в хвосте линейки с поминальниками — бедным людом, порой даже не знавшим покойника, приобретавшим право своим присутствием на похоронах принять участие в поминальной трапезе по окончании церемонии. При встрече с подобным шествием прохожие также творили крестное знамение, желая усопшему царствия небесного.
На святках и на масленице грохот улицы смолкал.
Бесшумно летели мимо окон быстрые сани. Лошади гулявших москвичей, украшенные лентами и бумажными цветами, издали возвещали о своем приближении мелодичным звяканьем бубенцов. Рабочий люд шел гурьбой по тротуарам с песнями и с заливом гармоник. Рано утром и поздно вечером мимо наших окон громыхал обоз с бочками — на козлах, укрепленных длинными эластичными жердями к ходу полка, тряслись «золоторотцы» 2* , меланхолически понукая лошадей и со смаком закусывая на ходу свежим калачом или куском ситного. Прохожие тогда отворачивались, затыкали носы и бормотали: «Брокар едет» 3* . Часто в эту пору мелькали на улицах бочки с питьевой водой, развозившие свой товар но домам, лишенным удобства водопровода. В эти же ранние часы гнали мимо дома арестантов в таганскую тюрьму в грязных черных куртках, с круглыми ермолками на наполовину обритых головах. По бокам шли конвойные с обнаженными шашками, а прохожие лезли в карманы и подавали проходящим несчастным свою посильную помощь.
Справка
Колосов Иван Иванович
Родился в 1902 году в деревне Ручьевка Тверской губернии,
С 1937 г. был директором школы № 525 г. Москвы. Добровольцем ушел на фронт 27.06.1941 г. Воевал на Белорусском фронте в звании старшего лейтенанта. В декабре 1942 г. получил тяжелое лицевое ранение и 9 апреля 1943 г. умер от ран. Похоронен в Донском крематории г. Москвы
Справка
Ю́рий Васи́льевич Бо́ндарев (род. 15 марта 1924) — русский советский писатель. Герой Социалистического Труда (1984). Лауреат Ленинской (1972) и двух Государственных премий СССР (1977, 1983).
Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в городе Орске (ныне Оренбургская область) в семье Бондарева Василия Васильевича (1896—1988), народного следователя, и Бондаревой Клавдии Иосифовны (1900—1978). В 1931 году они переехали в Москву.
Участник Великой Отечественной войны (с августа 1942 года), младший лейтенант.
Член ВКП(б) с 1944 года.
Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (1951).
Дебютировал в печати в 1949 году. Первый сборник рассказов «На большой реке» вышел в 1953 году. Автор рассказов (сборник «Поздним вечером», 1962), повестей «Юность командиров» (1956), «Батальоны просят огня» (1957; 4-серийный фильм «Батальоны просят огня» по мотивам повести, 1985), «Последние залпы» (1959; одноимённый фильм, 1961), «Родственники» (1969), романов «Горячий снег» (1969; одноимённый фильм,1972), «Тишина» (1962; одноименный фильм, 1964), «Двое» (продолжение романа «Тишина»; 1964), «Берег» (1975; одноименный фильм, 1984).
Автор сценария фильма, снятого по роману «Горячий снег» (1972). Один из авторов сценария киноэпопеи «Освобождение» (1970) и фильма «Батальоны просят огня».
Подписал письмо группы советских писателей в редакцию газеты «Правда» 31 августа 1973 года о Солженицыне и Сахарове.
Депутат Совета Национальностей ВС СССР 11-го созыва (1984—1989) от Карачаево-Черкесской автономной области. Делегат XIX Всесоюзной конференции КПСС (1988). Член ЦК Компартии РСФСР (1990—1991). В 1991 году подписал обращение «Слово к народу».
Был членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета». С 2001 года член редакционной коллегии журнала «Мир образования — образование в мире».
Почётный член Санкт-Петербургской общественной организации Академии русской словесности и изящных искусств имени Г. Р. Державина.
Справка
Отец Николай Кречетов (Николай Михайлович Кречетов). Родился 14 апреля 1934 г. в семье репрессированного бухгалтера, впоследствии священника. Русский.
Окончил Московский лесотехнический институт, 14 лет работал инженером-механиком.
1960 г. - женился, таинство венчания совершил протоиерей Всеволод Шпиллер.
В начале 1970-х гг. - экстерном окончил Московскую духовную семинарию и поступил в Московскую духовную академию.
11 марта 1973 г. рукоположен в сан диакона.
1973-1980-х гг. - служил в храме свт. Николая в Кузнецах диаконом, затем протодиаконом
С 1992 г. - настоятель храма Спаса Преображения на Болвановке. Первый настоятель этого храма после десятилетий запустения. Первая служба прошла в Крещенский Сочельник 18 января 1992 года.
С 29 марта 1996 г. - благочинный Москворецкого округа г. Москвы.